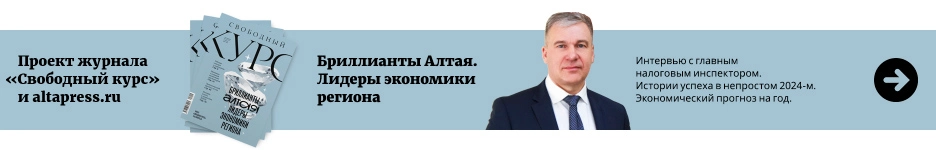— Евгений Григорьевич, еще три года назад казалось, что мировой кризис преодолен, развитие началось. Но экономический рост в России снижается, причем снижается при высоких ценах на нефть. Почему это происходит?
— В 2014 году мы пока не имеем роста, возможно, к концу года наберем около 1%. В целом состояние экономики неудовлетворительное по всем критериям, хотя по сравнению с другими странами у России очень небольшой государственный долг. И, даже если брать частный долг (наш коммерческий сектор набрал кредиты около 400 млрд. долларов), он невелик в сравнении с нашим платежным балансом и состоянием резервов.
Так или иначе, мы живем в обстановке мирового кризиса. Затяжной экономический кризис связан, на мой взгляд, с тем, что начиная с 1973 года идет процесс перехода от индустриальной экономики к экономике инновационной.
— В чем принципиальное отличие индустриальной экономики от инновационной?
— Индустриальная экономика строилась на том, что благодаря науке и технике осваивались все новые и новые месторождения полезных ископаемых. На этих минеральных ресурсах возникали новые отрасли, они быстро развивались. В 1973 году цены на нефть повысились в три раза за год, в 1979 году рост был в 10 раз по сравнению с 1972 годом. Это вызвало кризис на Западе и переориентацию на топливосберегающие технологии.
При этом стало выясняться, что если у вас нет, как прежде, дешевых полезных ископаемых, дешевых трудовых ресурсов, вы теряете источники увеличения темпов роста и должны переходить на другие. Главным источником становятся инновации, изобретения, реализация научных открытий и технологий, основанных на новых знаниях. Это означает, что темпов роста 7–8% в год мы больше видеть не будем. Это может быть слишком сильное утверждение, но оно не лишено оснований.
Депрессии не будет
— Развитие экономики идет волнами: за спадом следует взлет. Может быть, вслед за этим затяжным кризисом когда-нибудь начнется затяжной рост?
— Я опираюсь на то, что происходило в последние годы. Напомню некоторые ключевые моменты. В 1970-е годы директором Федеральной резервной системы США был замечательный экономист Пол Уолкер. Он пошел на то, что поднял учетную ставку с 1 до 6%. На 6% кредиты окупать было довольно трудно, но зато в Америку потянулись большие капиталы. И экономика резко повысила темпы роста, США вышли из кризиса, который был связан с подорожанием нефти.
Затем ФРС возглавил новый герой — Алан Гринспен. В 2001 году он принял колоссальное решение: снизил учетную ставку с 6% до 1% для того, чтобы вызвать оживление американской экономики. Сказать, что американская экономика резко оживилась, нельзя. Но решение привело к резкому росту экономики Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и России, потому что они могли с применением заемных капиталов брать заемные технологии, применять дешевую рабочую силу и распространять продукцию своего экспорта на возрастающее количество стран. Кризис 2008–2009 годов положил конец позитивным сдвигам, которые были связаны с решением Гринспена.
— Можно ли сказать, что эта тенденция приведет к еще одному мировому кризису вроде Великой депрессии 1929 года?
— Нет. Но если в течение 200 лет капиталистическая экономика Европы обладала колоссальным потенциалом и быстро двигалась вперед, то теперь темпы будут снижаться. Нас ожидает длительный процесс роста мировой экономики со скоростью примерно 2%. Что это такое 2%? Это примерно та скорость, с которой идет освоение достижений технологического прогресса, улучшения технологий, повышение производительности. Главным образом это движение идет от США, Германии, Англии, Франции, Италии, Японии и Южной Кореи. В них быстрее разрабатываются, применяются и затем распространяются передовые технологии — главный двигатель инновационной экономики.
Он возглавил процесс
— Рост цен на нефть в России долгое время способствовал развитию. Сейчас нет. Что же произошло?
— Ситуация изменилась. Раньше важным фактором динамики было повышение цен на углеводороды и другие продукты первичной переработки, которые мы экспортировали. Сейчас это перестало действовать, а других факторов, которые бы компенсировали его выбытие, не появилось.
Почему произошло снижение темпов роста российской экономики? Упала активность бизнеса. При росте 7–8% в год он соглашался вкладывать тогда, когда имелась прибыль. Но инвестировать при том инвестклимате, который сложился в 2003 году, бизнес опасается. Сейчас даже в Европе появляются позитивные темпы экономического роста. А у нас наоборот. Если с 2000 по 2008 год мы имели темпы роста 6–7,5%, тогда когда западные страны 1,3%, то теперь они поднялись до 2,5%, а у нас рост всего 1,3%.
Но 2% роста для них означает, что они усваивают достижения технического прогресса. Для того чтобы войти в высшую лигу мирового технологического развития, рост производительности у нас должен идти быстрее. И это возможно только в том случае, если у нас будут серьезные инновации.
— Какие именно условия сложились в 2003 году?
— Примерно в 2003 году цены на нефть достигли $27 за баррель, а в 1998 году они были $12 и $8. После этого они стали расти на 12–15% каждый год вплоть до 2008 года. Когда нарисовались благоприятные условия для экономики, появился спрос на нефть и газ, продукты черной и цветной металлургии, встал вопрос: кто будет выгодоприобретателем. Два класса претендовали на эти результаты: бизнес и бюрократия. Начался конфликт, который закончился выдворением за рубеж Березовского и Гусинского, арестом Ходорковского и т. д. В конфликте победила бюрократия.
Снижение деловой активности было компенсировано ростом цен на нефть и газ, увеличением доли государства в экономике, повышением роли компаний, имеющих тесные дружеские отношения с верхними слоями бюрократии. Существует ряд частных компаний, которые пользуются доверием государства, и оно обращается к ним так же, как к государственным, с различного рода предложениями, от которых они не могут отказаться. Но за это они получают преимущества в развитии.
— Победа бюрократии, о которой вы говорили, произошла естественным путем, или она произошла вследствие прихода нынешнего президента?
— Он возглавил этот процесс. Но бюрократия могла не победить. Лучше, чтобы были какие-то институты, партийная система, которые удерживали бы равновесие.
Сценарии развития
— Какое-то время говорили о принуждении к инновациям, сейчас даже разговоры об этом прекратились — очевидно, принуждения все же не срабатывают. Чего не хватает?
— Мы должны провести две очень важные реформы. Первая — правовая реформа, которая передает верховенство праву вместо решения начальства. А правовые реформы требуют контроля со стороны общества, поэтому нужны политические реформы. Другой сценарий развития событий — берет верх консервативное начало, и бюрократия укрепляет свою власть посредством усиления регулирования, различного рода преследований за нарушение установленных ею правил. Сейчас мы наблюдаем стремление установить такой режим.
— И все-таки президент провозгласил курс на развитие российского производства во всех сферах. Как вы думаете, это получится?
— Это может получиться только в том случае, если есть сильная и полезная конкуренция, под воздействием которой работают производители. Я хочу напомнить положительный опыт, который у нас в этом отношении был. Это реформы Александра III, когда премьер Витте занимался стимулированием экономики. Причем у него был сбалансированный бюджет, а развитие отечественной индустрии он связывал с привлечением иностранных капиталов и соответствующих специалистов. Тогда, напомню, были созданы основные предприятия Донбасса и Приднепровья, развивалась угольная промышленность, металлургия создавала ресурсы для строительства железных дорог. Все это замыкалось в цепочку и давало толчок. Угольная промышленность Донбасса была основана англичанином Хьюзом. И город Юзовка — это в честь этого самого Хьюза. Ныне это Донецк. Металлургические заводы в Кривом Роге построены русским помещиком, но деньги он взял в Брюсселе. Короче говоря, я поддерживаю политику импортозамещения, но нельзя разрушать конкуренцию.
— Насколько все в России завязано на Владимире Путине?
— Мне 80 лет. И мне было больше 20 лет, когда умер Сталин. Что творилось? Многие рыдали, говорили, что с нами будет дальше... Ничего, нормально. Нормальная демократическая страна не страдает из-за того, что у нее нехватка умных лидеров. Путин совсем неглупый парень и многие вопросы решает не худшим образом. Но сколько можно? Всему есть разумный предел.
Крым и Китай
— Если говорить о событиях последних месяцев, то в какой степени Украина сама виновата в потере Крыма?
— У них проблем гораздо больше, чем у нас. Сегодня у них объем ВВП составляет две трети от уровня 1990 года. У них в течение всего этого времени все делалось не так. Потеря Крыма для них не столь существенна — они на нем не зарабатывали. Для них это вопрос престижа. Я бы на их месте сказал бы — все, забыли про Крым, нам его сунул Хрущев, мы его к чертовой матери отдаем России и не возвращаемся. Нам нужна дружба с Россией, чтобы мы могли торговать, провозить свои товары в Крым, а мы получать с этого пошлины и налоги.
— Переход Крыма под нашу юрисдикцию когда-нибудь окупится?
— Окупаться он начнет тогда, когда по масштабу рекреационного бизнеса он сравняется или превзойдет наши кавказские курорты как минимум. А учитывая то, что кроме Кавказа у нас теперь есть еще и поездки в Хургаду, лечиться россияне ездят по всей Европе, — так это кому он нужен? Он начнет приносить экономический эффект, когда восстановит советскую еще норму обслуживания людей. А до этого нет. Развивать там промышленность бессмысленно.
— Заключение контракта на поставку газа в Китай — это спонтанное решение, вызванное решением Европы уменьшить зависимость от российского газа?
— Это хорошо просчитанное решение, и в основном у нас политические цели, а не экономические. Но это важно и стратегически — мы, конечно, хотим сохранить завоевания наших казаков, которые туда пришли в XVII–XVIII веке. Чтобы мы могли сохранить нашу территорию, мы должны найти для Сибири и Дальнего Востока такой профиль развития, который решал бы проблемы наших соседей и таким образом создавал бы почву для нормального хозяйственного существования Сибири. Примерно такого, как север Канады создает для своих районов.
— Нужно ли России создание своей платежной системы вместо иностранных?
— Чем большее функций вы возлагаете на эту будущую систему, тем дольше она будет создаваться и тем меньше от нее будет проку. Заменить полностью иностранные платежные системы обойдется очень дорого, если не принесет просто прямых убытков. Люди доверяют этим компаниям. Вы можете установить над ними какой-то государственный контроль. Это максимум. Но если какие-то наши бизнесмены хотят добиться успеха в этой отрасли и будут осуществлять операции в США и Европе, то пусть попробуют поконкурировать. Но ведь говорят, что таким образом будет обеспечиваться государственная безопасность. А при слове "безопасность" у меня сразу ощущение, что кто-то ко мне пристает с ножом.
О чем еще рассказал собеседник
Об инноваторах
— Инновации делятся на две категории: для себя и для рынка. Для себя — это тогда, когда вы усваиваете достижения и технологии и повышаете производительность. А для рынка — это когда мы сами делаем инновации, предлагаем их на рынке и наше предложение имеет спрос. Обстановка на рынке должна быть такая, чтобы было выгодно придумывать у себя и продавать другим то, что вы придумали. У нас есть такие компании, которые умеют это делать. Почему-то они не пользуются большим авторитетом. Вот компания Яндекс сейчас подвергается определенному давлению. Хотя это одна из немногих российских компаний самой передовой отрасли, которая конкурентоспособна по сравнению с любой иностранной компанией.
О факторах управления
— Россия в течение примерно с 1300 года, с правления Ивана Калиты, живет в обстановке, когда полное единовластие, самодержавие являются главным фактором в управлении. А инициатива бизнеса, которая опирается на закон, на правила, контролируемые обществом, отсутствует. В российской истории были определенные движения, когда в течение какого-то времени это правило все-таки действовало. Это соблюдалось в значительной степени после реформ Александра II. Начиная с 2003 года мы снова перешли в режим единоличного самодержавного правления.
Досье
Евгений Григорьевич Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. В 1957 году окончил Одесский гидротехнический институт, в 1963 году — экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук. В 1994 году назначен министром экономики РФ, в 1997 году — министром без портфеля по экономическим вопросам, внутренним и внешним инвестициям в правительстве РФ. С октября 1998 года — научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Цифра
С 4,3 до 1,3% снизился показатель роста ВВП России с 2010 до 2013 года. До кризиса рост составлял 6,3–6,8% в год.
Самое важное - в нашем Telegram-канале