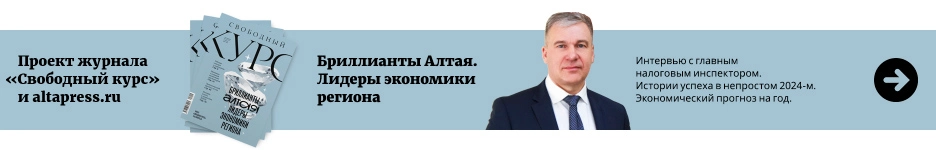Люди и лошади
– Алексей Алексеевич, вы известный ученый, ведете большую работу по гранту Российского научного фонда и по проекту Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ. В чем состоит ваша работа?
– Научно-исследовательская работа по этим проектов отличается по многим направлениям и показателям. Если проект РНФ сосредоточен на междисциплинарном изучении всего, что связано с древними кочевниками, то программа нашей группы в НОЦе «Большой Алтай» охватывает только отдельные аспекты культуры раннесредневековых животноводов и их взаимодействие с оседлым населением.
Проект РНФ более фундаментальный и обширный. Он охватывает территорию Внутренней Азии, в которую входят Монголия, вся Южная Сибирь (Алтай, Тува, Забайкалье) и Синьцзян. При этом приходится привлекать материалы из памятников сопредельных территорий, а также из более древних периодов.
В последние два года мы также начали исследования в Кыргызстане, который представляет собой западную окраину исследуемого нами древнего кочевого мира. Традиционно обращаемся к материалам юга Западной Сибири.

По программе «Большой Алтай» исследуется более ограниченная территория. Кроме Алтая (в широком его понимании), проводятся небольшие работы на памятниках Памира и Внутреннего Тянь-Шаня, где сохранились источники, относящиеся к тюркскому времени.
В проекте РНФ участвуют не только археологи, но и специалисты из других областей научных знаний. Например, у нас есть группа палеогенетиков под руководством Александра Графодатского, члена-корреспондента Российской академии наук.
В этой команде активно работает Мария Куслий, сейчас она одна из ведущих специалистов в области палеогенетического изучения древних лошадей в нашей стране. У нее был опыт обучения и стажировок во Франции, в университете Тулузы-III, где передовой лабораторией заведует известный специалист – профессор Людовик Орландо.
Маша защитила две диссертации: в России и во Франции. Более подробную информацию о нашем проекте РНФ и составе исполнителей можно посмотреть на специально созданном сайте nomads-asia.ru.
Палеогенетические исследования наш коллектив ведет длительное время, потому что тема огромная и связана с изучением прежде всего лошадей, которые использовались древними кочевниками.
В этой теме приходится все время углубляться в более ранние периоды, в частности, в начало эпохи палеометалла, чтобы понять особенности процесса одомашнивания лошадей.

Лошадь играла важнейшую роль в жизни кочевников – в хозяйстве, быту, военном деле, а также в различных ритуалах, являясь жертвенным животным. Сохранилось много костных остатков, подтверждающих эту практику. В настоящее время реализуется международная программа, объединившая исследователей из Франции, Германии, Монголии, Казахстана и Китая, в которую мы также включены.
Цель проекта – выяснить, какие лошади использовались древними кочевниками. Мы начали заниматься этой проблематикой даже раньше, и теперь имеющиеся наработки позволяют нам выступать в качестве экспертов.
Как я уже отметил, наши исследования расширились за счет изучения материалов, полученных археологами на юге Западной Сибири. Были выявлены различия между лошадьми периода поздней бронзы Верхнего Приобья и Монголии, что указывает на разные места их происхождения и адаптации использовавшихся пород.
Мы готовим несколько статей на основе наших результатов, участвуем в работе и подготовке публикаций в рамках международной коллаборации.

В современном научном мире проводится масштабная историко-культурная реконструкция в области изучения древнего коневодства. Конечно, при этом учитываются классические исследования в области гиппологии (науки о лошадях).
Сейчас идет волна осмысления всего предыдущего опыта, и делаются новые открытия. Очень важно, что мы участвуем в этом процессе, работая не только с палеогенетиками, но и с археозоологами, ведущими специалистами из Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. Такой подход позволяет не только решать имеющиеся проблемы, но и постоянно обозначать новые задачи. В этом и есть актуальность развития науки.
Еще одно направление в рамках проекта РНФ связано с изучением вооружения и военного дела древних кочевников, потому что именно в тот период времени зарождались многие традиции организации войска, состоявшего из воинов-всадников. Применялись боевые колесницы. Существовала военная иерархия.
Полноценные источники для реконструкции нам дает изучение так называемых оленных камней. Это древние изваяния, которые сохранились в Монголии и на сопредельных территориях, иногда в первоначальном положении. Примерно на 80% из более 1500 обнаруженных изваяний есть изображения предметов вооружения. Для их исследований мы разработали новые методы, связанные с цифровыми технологиями.
Одним из крупных результатов работы по проекту РНФ стало обоснование того, что в конце II – начале I тысячелетия до н.э. на огромном пространстве Внутренней Азии существовала самая архаичная кочевая империя, то есть начальная форма государственности у древних кочевников.
Об этом свидетельствуют огромные архитектурно-спланированные погребально-поминальные и мемориальные комплексы, строительство которых было возможно только в организованном обществе и при наличии серьезных ресурсов, том числе человеческих.

Если нанести на карту все известные к настоящему времени оленные камни, то мы увидим, что территория архаичной империи огромная и имеет свою границу. При этом выделяются две зоны массового скопления изваяний – Центральная Монголия и Монгольский Алтай с прилегающими зонами. Такая ситуация тоже характерна для кочевых империй.
За три года работы по проекту было представлено много докладов на конференциях высокого уровня, в ходе которых обсуждали обозначенные темы и апробировали те или иные инновационные разработки. Также есть несколько десятков публикаций. Есть статьи в высокорейтинговом журнале мирового уровня Nature. Работы продолжаются.
На самом деле не так быстро достигаются новые и очень значимые результаты. Срок в три года для реализации фундаментальных проектов РНФ слишком мал. Конечно, у нас был задел, но сейчас получены более серьезные наработки. Ждем продолжения финансирования проекта на ближайшие два года, что предусмотрено конкурсной документацией РНФ. Формировать и переключаться на другой проект – это просто потеря времени и это невыгодно. В любом случае, мы намерены продолжать работу по указанной тематике.

Что касается НОЦ «Большой Алтай», то тут мы еще на начальном пути, хотя, конечно, заделы тоже есть. Мне более всего важным кажется процесс распространения тюркской культуры, особенно в западном ареале, и то, как происходило взаимодействие кочевников с местным населением.
Тюрок было численно меньше, когда они, будучи в основном воинами, приходили на новые земли. Поэтому они были вынуждены адаптироваться к новым условиям разного плана. Ведь не все время они воевали. Нам важно понять механизмы и результаты взаимодействия, в чем и как они выразились.
Симбиоз из разных культур также способствовал развитию условно тюркской культуры, появлялись новые формы, идеи, знания. В этом контексте мы можем наблюдать эволюцию и развитие культурных традиций.
Уже сейчас есть потрясающие результаты в обозначенном направлении. Очень хорошо сказанное иллюстрирует некрополь Шахидон, расположенный неподалеку от Душанбе. Он изучался несколько лет, и мы планируем продолжить там работы.
В тюркское время мужское население, состоящее преимущественно из воинов-кочевников, пришло со своими культурными традициями, в которых существенное место занимали лошади. Им приходилось брать в жены местных женщин, которые занимались земледелием и жили в совершенно другом культурном мире. И вот в ходе археологических раскопок обнаруживаются погребения, свидетельствующие о слиянии и пересечении этих совершенно разных культурных традиций.

Одно из направлений, которое мы сейчас пытаемся реализовать, опираясь на опыт работы с оленными камнями, - это изучение каменных изваяний тюркского времени с помощью цифровых технологий. В них отражено не только многообразие материальной культуры, но и социальное положение, одежда, прически и много другое, даже характер человека.
Большое число скульптур сохранилось в Кыргызстане. Даже на Алтае мы не находили таких крупных изваяний, под три метра высотой, с проработанной поясной гарнитурой и сумочками, детализированным оружием и так далее. На некоторых есть надписи. Поэтому основное внимание планируем сосредоточить на создании цифровых копий этих изваяний тюркского времени для широкого сравнительного анализа.
Довольно много тюркских изваяний на Алтае найдены, и будут еще выявлены. Практика показывает: как только начинаем искать – сразу находим. В Синьцзяне изваяния тюркского времени очень близки к тем, которые найдены на Алтае. Также много разных скульптур обнаружено в Монголии и в Туве.
Традиционно наши исследования связаны с археологическими раскопками и разведками. В прошлом году мы провели небольшую экспедицию, обследовав горные долины неподалеку от Бишкека. Обнаружили множество курганов, среди которых надо выявить прежде всего средневековые объекты. В этом году мы планируем там продолжить исследования. Итогом нашей работы станет создание баз данных и экспонирование объектов в виртуальном музее, который планируется модернизировать.
Также одним из новых направлений работы в рамках НОЦ «Большой Алтай» может стать тема ойратского или джунгарского периода, которая была поднята на недавно организованном круглом столе. Этот исторический этап, к сожалению, не получил до сих пор должного внимания со стороны археологов, поскольку существует много письменных источников – арабских, китайских, русских и других.
На круглом столе были рассмотрены другие источники, прежде всего материальные объекты и археологические находки, связанные с изучением вооружения. Эти материалы представляют собой значительное дополнение к имеющимся изобразительным и письменным данным. Надписи также являются специфическим, но важным источником информации. Коллеги начали исследовать поселенческие комплексы, чтобы понимать, как люди жили тогда и чем занимались.

Существовал разрыв в изучении периода между развитым средневековьем и Новым временем. Дело в том, что, например, памятников XV века на территории Алтая практически нет, есть только отдельные находки.
Свою роль позже сыграл так называемый малый ледниковый период, когда люди начали мигрировать в разные места. Несмотря на похолодание, часть населения ушла на север, где было больше ресурсов для проживания. Часть двинулась на юг, где теплее. Но кто-то остался. Именно в то время формировалась этническая картина, которая вызывает интерес у современных народов. Они задают вопросы о своем происхождении и о том, где и как жили их предки.
В целом, эта тема новая и перспективная. По результатам круглого стола запланирован отдельный номер нашего научного журнала «Теория и практика археологических исследований», что тоже повлияет на дальнейшую разработку затронутых научных проблем.
Я благодарен коллегам, которые откликнулись, подготовили доклады и выработали продуктивную резолюцию. Это направление станет новой линией в нашем проекте для изучения тюркоязычного мира, которая полна спорных вопросов и серьезных проблем при детальной реконструкции. Полагаю, настало время комплексно подойти к изучению всех этих аспектов.
На самом деле сейчас реализуются огромные научные программы в области археологии. Я чрезвычайно рад этому и наслаждаюсь ситуацией, когда есть возможность их реализовывать.
В планах еще много важных дел, но я о них пока молчу, чтобы не пугать коллег сложными перспективами. Могу сказать только, что методично, иногда с некоторым запозданием, мы реализуем те идеи, которые возникли 10–20 лет назад. И только сейчас выходим на уровень понимания многих процессов, реконструкция которых от нас требуется уже в историческом формате.

3D-модели и «неандертальцы»
– Расскажите о ваших недавних экспедициях. Что удалось необычного обнаружить?
В прошлом году у меня было девять разных по масштабу экспедиций в пяти странах. Наша командировка по гранту РНФ в Синьцзян – это огромная удача, именно этот регион долгое время был закрыт для иностранцев. Удалось познакомиться с музейными коллекциями, археологическими объектами и оленными камнями, установленными в парках.
Одной из самых потрясающих стала экспедиция в Центральную Монголию в 2023 году, где мы нашли производственный клад из 34 каменных орудий и приспособлений для изготовления древних изваяний. Это, я считаю, не просто сенсация, это огромное открытие в изучении мира древних кочевников и мастеров по производству оленных камней.
Никто ранее не находил такое количество каменных инструментов, причем были найдены удивительные изделия. Мы получили ключ к новым исследованиям. Первый подобный, но совсем небольшой клад в 1976 году на Алтае обнаружил известный археолог Владимир Кубарев при исследовании комплекса оленных камней. Благодаря его сыну Глебу этот клад, находящийся в Институте археологии и этнографии СО РАН, был изучен на современном уровне и станет хорошим сравнительным материалом.
Наш технический специалист Сергей Бондаренко осуществил фотограмметрию части монгольских находок. Сделаны их компьютерные прорисовки. Удивительно, но археологи, до сих пор работают с графическими плоскостными изображениями, так традиционно сложилось и так отражается в изданиях. Восприятие осталось, как у неандертальцев, хотя уже есть всякие возможности работать с 3D-моделями, опираясь на пространственные данные, или с цифровыми копиями.
Но для публикаций приходится делать графические плоскостные прорисовки. Мы потратили много времени на разработку технологии, позволяющей преобразовывать пространственные изображения в черно-белые графические плоские рисунки. Но они уже не актуальны для объемных объектов в современных исследованиях.

Думаю, что в ближайшее время ситуация будет меняться. Мы с коллегами готовим статью, скорее всего, для публикации в журнале «Краткие сообщения Института археологии», где продемонстрируем, как цифровые технологии могут перевернуть процесс исследований. Пора работать и издавать по-другому.
Наша основная ближайшая задача – создать электронную базу данных, где объекты будут доступны для просмотра в различных ракурсах, размерах и деталях. Уже сегодня с помощью фотограмметрии и 3D-моделирования мы можем изучать артефакты, не отходя от компьютера.
Можно автоматически получить всякие разрезы и точные размеры, заглянуть вовнутрь и посмотреть, как это вообще было сделано. Важно понимать, как древний мастер воплотил свою идею. Иногда встречаются просто поразительные вещи. В голове не укладывается, как это можно было сделать. Но сейчас много возможностей для понимания всего найденного. Поэтому, можно сказать, что мы работаем на передовом фланге науки.
Прилив молодых сил
– Есть ли какие-то места на Алтае, где еще не ступала нога археолога, и вам бы хотелось их изучить?
– Конечно, таких мест много. Честно говоря, они меня не влекут, так как я понимаю, что надо обработать те материалы, которые были мною ранее получены. Лежат коллекции, которые сданы в музей 20 лет назад и более. Большая часть до сих пор не опубликована в полном объеме, хотя мы чуть ли не каждый год монографии издаем.

Есть еще и такой момент. Большое количество археологических материалов с Алтая до сих пор лежит в разных музеях страны. Например, коллекция Петра Козьмича Фролова, 250-летие которого мы отмечаем в этом году, до сих пор не введена в научный оборот. Она хранится в Государственном Эрмитаже, в разных фондах. В свое время я предпринимал попытки изучить части этой коллекции. Надо продолжить.
До сих пор не опубликована коллекция известного барнаульского краеведа Николая Гуляева. Части ее хранятся в разных музеях России, в том числе в Национальном музее Республики Алтай имени А.В. Анохина.
Благодаря поддержке директора музея Риммы Еркиновой и ведущего научного сотрудника Сергея Киреева мы методично обрабатываем эту коллекцию. Поэтому работы достаточно и без раскопок. Тем более что сейчас есть много инструментариев, которые нам позволяют получать достаточную для реконструкции информацию без раскопок.
Много дают снимки из космоса и фотографирование местности с помощью геодезических дронов. Хотя, конечно, полностью не обойтись: любые раскопки дают новый материал, новую пищу для размышлений.

Вся основная работа у меня сейчас больше исследовательская в рамках научных проектов. Есть молодые люди, подрастающее поколение археологов, в частности, на кафедре нашего университета. В этом году у нас запланировано 16 бюджетных мест для бакалавриата по направлению «Археология» (профиль «Инновационная археология»). Думаю, это будет хороший прилив свежих сил и идей, которые позволят решить множество проблем. Работы хватит на несколько десятков поколений археологов.
Кроме того, у нас есть магистратура по археологии, где в этом году предусмотрено девять бюджетных мест. Программа магистратуры связана с темами, которые мы исследуем в рамках НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай».
Профиль нашей программы «Археология Центральной Азии», и мы ждем студентов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Китая и Монголии. Традиционно нам выделяют каждый год места в аспирантуру. Есть докторантура, диссертационный совет. В общем, полный комплект для подготовки высококвалифицированных специалистов в области археологи. Мы, пожалуй, единственный вуз в России, которые имеет такие большие возможности.

В рамках алтаистического форума в сентябре мы проведем Российскую археолого-этнографическую студенческую конференцию с международным участием, на которую было подано более 300 заявок из России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Ирана и других стран. Так что вся надежда на молодых. Ну, а мы готовы обучить их и передать знания, которые позволят поднять археологию на новый уровень как в нашей стране, так и в мире.
ИИ работает на полную мощность
– Новые технологии и ИИ помогают науке или мешают?
– По-разному. Надо уметь заставить искусственный интеллект работать правильно и результативно. Для этого важно грамотно обозначить задачи, иметь необходимые ресурсы, в том числе компьютерные программы.
При этом важно понимать, что искусственный интеллект не сможет выполнить всю программу исследований, а лишь поможет в решении отдельных проблем. Главное, что он подсказывает и формирует проблемы, тем самым позволяет нам корректировать подходы и адаптировать программы к обозначающимся требованиям.

Сегодня мы достигли хорошего уровня работы с ИИ, используя дифференцированный подход. Каждая задача или программа решается отдельно, после чего мы оцениваем их результаты в совокупности.
Этот алгоритм применяется в нашей исследовательской практике. Мы ставим несколько задач, обрабатываем их результаты, смотрим, что получилось в совокупности, и если этот вариант нас устраивает, продолжаем работу на тиражирование. То есть это уже не творчество, а ремесло.
Сейчас ИИ работает на полную мощность, хотя мы, возможно, еще не сильно его загрузили. Начальный уровень его применения заключается в оценке различных точек на поверхности камня, что позволяет нам получить общую картину и выявить нюансы в технологии выбивки изображений.

Но с теми же оленными камнями мы до сих пор еще экспериментируем. На некоторых из них мы успешно отработали технологию и получили патент. Однако есть и более сложные источники, где простые методы не работают. Например, некоторые изображения еще и раскрашивались. Поэтому в ходе работы у нас формируется вал интеллектуальных задач. И он с каждым годом растет. Это нормальный процесс.
Естественно, чем дальше, тем больше проблем и вопросов. На данный момент справляемся, у нас есть суперкомпьютер, который университет приобрел в рамках программы «Приоритет-2030», есть инструментарий, который мы еще не исчерпали, ну и самое главное, голова работает – все это дает результаты. Пока то, что мы умеем делать, в мире не делает никто, и мы не останавливаемся на достигнутом.
Ирина Смольянинова
Самое важное - в нашем Telegram-канале